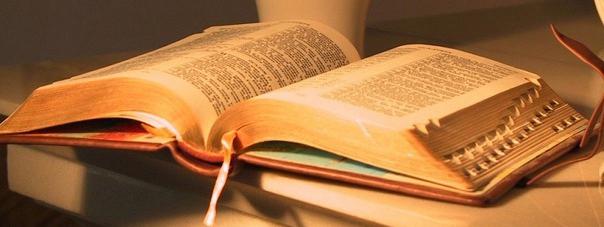
-
13 Июнь 202013 июня 2020 года, в субботу 1-ой седмицы по Пятидесятнице, в день отдания праздника Святой Троицы, Преосвященнейший епископ Сочинский и Туапсинский Герман возглавил Божественную Литургию в Свято-Троицком соборе г. Армавира.
-
07 Июнь 20207 июня 2020 года, на пятидесятый день после Светлой Пасхи Христовой, Свято-Троицкий собор города Армавира отметил свой главный престольный праздник в честь Святой Живоначальной Троицы.
- Все новости
ПРОЗА Ю. БУЙДЫ В ШКОЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ)
Крылова Н.В.
Процесс так называемой «гуманизации» общества на сегодняшний день очень велик, и его присутствие ощущается во всех сферах жизнедеятельности. Охватил он и систему образования. Школьники изучают произведения, которые несут в себе утверждение исключительно антропоцентрического начала, противопоставленного традиционному для русской литературы началу христоцентрическому. Присутствует гуманизм в основном в современной русской литературе, которая сегодня активно включается в школьную программу. При этом современные «левоориентированные» авторы считают себя непревзойдёнными творцами, имеющими право осуждать, осмеивать, иронизировать и т.д. Одним из таких писателей является Юрий Буйда.
Современный прозаик, постмодернист, он написал достаточно большое количество рассказов и три романа. Современная критическая литература отзывается о нём не просто со знаком плюс, а считает его даже хранителем традиций русской классической литературы. Так, Татьяна Ирминева отмечает: «Сборник рассказов Юрия Буйды “Прусская невеста”, вышедший в издательстве “Новое литературное обозрение”, можно расценить как возвращение рассказчика в большую русскую литературу». А подтверждает это тем, что его произведения, якобы, «возвращают читателю атмосферу старинного чтения»[1]. Согласитесь, какая-то странная аргументация.
«Нравоучительность и велеречивость в сочетании с натурализмом и ненормативной лексикой не всякому придутся по вкусу. Но то, что Буйда создал новую живую реальность, то, что она интригует и понуждает читателя в нее погрузиться, даже вроде бы и против воли, это очевидно»[2]. Это высказывание принадлежит уже другому критику, Анне Лапиной. Что касается слов «погрузиться против воли», это факт, но едва ли положительно характеризующий произведения Буйды. Эти восторженные отзывы, появляющиеся просто в огромном количестве, поражают своей многогранностью и всесторонностью. Вот ещё одно хвалебное высказывание о прозе Буйды: «Это умная проза о здоровых обыкновенных людях… Они все по воле автора не без тайного Босха внутри, но тоже не от простого произвола фантазии, а от того, что автор силою и мудростью настоящего дара знает, что “поверхность” человека обманчива и что достаточно его “паспортные данные” возмутить любовью и смертью, как сквозь них проступит тайна и страсть, счастье и безумие, мечта и преступление. Он не выдумывает, он прозревает существо жизни своих героев, тот небесный свет игры, который, если фантазию отпустить далее должного, может обернуться тьмой противоположной небу стороны»[3], – пишет Валентин Курбатов. Невольно создаётся ощущение, что все критики и литературоведы каким-то странным образом все разом забывают о присутствующих в прозе писателя эстетике и принципах постмодернизма, называя Буйду то наследником русской классической литературы, то создателем новой, живой реальности. И вот теперь этот «наследник» классики шагнул и в пространство школьного изучения.
В 2007 году под редакцией известного современного методиста В.Г. Маранцмана были изданы конспекты уроков для учителя «Русская литература последних десятилетий (11 класс)», в которых помещены разработки уроков по таким современным «классикам» как Б. Акунин, Т. Толстая, А. Маринина и многие другие. Там же мы с удивлением видим фамилию Буйды. Творчество Юрия Васильевича Буйды помещено в раздел современной русской прозы. Разработка урока принадлежит учителю высшей категории Л.Н. Соколовой. Тема, которую она предлагает для факультативного изучения современного этапа развития литературы, звучит так: «Особенности жанра современного рассказа (на примере рассказа Ю. Буйды “Ева Ева”)». Этот рассказ входит в книгу «Прусская невеста», которая была напечатана в 1998 году в журнале «Новое литературное обозрение» (Москва).
Рассказ или, как сказано у Соколовой, маленький рассказ, «Ева Ева» повествует о судьбе Евдокии Евгеньевны Небесихиной, героя Великой Отечественной войны. Место действия – Восточная Пруссия (г. Калининград), время действия – послевоенные годы (1945-1947гг.). Героиня прибывает в город одним из первых эшелонов, которые доставили в послевоенную Восточную Пруссию советских переселенцев, устраивается медсестрой в детский дом и начинает встречаться с немым Гансом. «Магнитная женщина», как сказал один из офицеров при первом взгляде на Евдокию Евгеньевну. Ева мечтает «забрюхатеть», но не может, и тогда она берет из детского дома Сусика, которого детдомовцы ради забавы вешают на дереве. Позже Ганса высылают вместе со всеми немцами, а Евдокия Евгеньевна бросается под поезд. Вот такой грустный финал. Ну а что мы могли ожидать, если на протяжения всего рассказа идёт нагнетание сюжета, или, как сказано у Соколовой, градация?
Итак, о какой же особенности жанра говорит Л. Соколова? Это так и остается непонятным. В её конспекте присутствует лишь сопоставление двух жанров литературы: очерка Е. Яковлевой «Это было, было…» и рассказа «Ева Ева» Ю. Буйды. Причём это сравнение свелось к весьма абстрактным утверждениям: «В очерке в хронологической последовательности рассказывается вся жизнь героини, а в рассказе – небольшой по времени отрезок, эпизод… Кроме того, в рассказе гораздо больше, чем в очерке, действующих лиц. Журналист рассказывает о конкретной судьбе реально существовавшего человека, а цель писателя – донести до нас определенную идею»[4]. А дальше учитель принимается вместе с классом дружно искать ту самую идею, о которой можно поведать детям, и как ни странно, находит, да и не одну: «Смерть мальчика. Война и дети. Война страшна, потому что жестокость и ненависть поселились в нескольких поколениях. / Разговор Евы Евы с доктором Щербатовым. Война и женщина. Война страшна, потому что женщина не может выполнить свое высшее предназначение – родить ребенка. / Депортация немцев. Война и народы. Война страшна, потому что она разрушает любовь, счастье, лишает людей Родины»[5]. Следуя композиции, Л.Н. Соколова выделяет три идеи произведения и, даже не пытаясь соединить их, преподносит детям. Она разбирает рассказ по частям, а соответственно и дети, и сама Л. Соколова не видит целой картины происходящего. Хотя следуя её логике, это совсем не сложно, так, например, все три идеи можно объединить в одну: «Война страшна. Она разрушает всё вокруг».
Заканчивается урок подведением итогов: «Каковы особенности жанра современного рассказа? / Многофигурность, глобальная проблематика, свойственные скорее жанру романа, а не рассказа; особая эмоциональность, достигаемая цепью кульминационных событий и т. п.»[6]. Не будем скрывать скудность сделанных выводов, но зато следует обратить внимание на домашнее задание: «1. Прочитать о послевоенной жизни в Калининградской области. 2. Написать произведение в жанре рассказа, используя приемы, аналогичные тем, которые вы увидели в рассказе Ю. Буйды»[7]. Интересно, а нецензурную лексику можно употреблять при написании рассказа, ведь дети и это могут перенять у писателя? А Л.Н. Соколова за сорок минут урока не позволила себе обратиться к этой стороне творчества писателя, не совсем понятно, почему.
Рассказ хоть и маленький, а пошлости в нём совсем немало. Так, например, школьники могут найти в тесте такие строки: «Я хочу забрюхатеть. – И, проглатывая первый звук его имени, звала его таким голосом, что в ее сторону поворачивались даже фаллические хоботы танковых орудий: “ – Аннес… Аннес…”»; «Ночами же мужчины на окрестных улицах до утра ворочались в своих постелях и беспрестанно жевали бумажные мундштуки папирос, прислушиваясь к ее счастливым стонам и вызывающе бессмысленному мычанию ее возлюбленного»; «Тогда зачем мне все это? – тихо спросила она, коснувшись рукой своей груди. – И это… и это… Зачем? Выходит, гожусь только в бляди?»[8]. Вот такой предстаёт перед нами главная героиня, не стесняющаяся никого и ничего, которую Л.Н. Соколова характеризует несколько по-другому: «Она открыта, доброжелательна... ее глаза светятся, сияют добротой и любовью»[9].
Но более всего поражает изображение детей детского дома. Они более походят на маленьких волчат, чем людей. «Детдомовские его (Сусика. – Н.К.) недолюбливали и в играх спуску не давали. Когда затевали игру в войну, ему чаще всего выпадала роль пленного на допросе. Его били сложенным вдвое телефонным проводом, прижигали живот папиросой и загоняли под ногти иголки. Стиснув зубы, Сусик молчал, доводя “врагов” до остервенения»[10]. И заканчивается это так: «Играя в войну, ребята повесили Сусика на сосне и устроили состязание в меткости: кто попадет ему камнем в сведенные судорогой губы. А когда попали, изо рта вдруг вывалился непомерно длинный фиолетовый язык»[11]. Людмила Николаевна говорит о проблеме детей, поднятой в рассказе, но почему-то не замечает говорящего имени мальчика Сусик, а ведь здесь просматривается абсолютно прозрачный намёк на Иисуса Христа, автор даже уточняет в скобках имя Сусика: «Сусиком (Иисусиком)».
Вообще, весь рассказ имеет весьма ироническую антихристианскую направленность. Приведём пример: «Как и когда они сблизились, как и когда они поняли, что должны быть вместе, и как при этом обошлись без слов – ведомо одному богу, который пасет немых и красавиц». Что это как не ирония над Богом и его «детьми». Сусик – единственный, кто не принимает Еву и называет её «немецкой шлюхой», «гитлеровской подстилкой”». Почему так происходит, непонятно, так же, как и непонятна ненависть детей. Соколова идёт путём «войны», обвиняя её во всех смертных грехах, но нам же кажется более убедительным другое объяснение. Ю. Буйде, видимо, надоело писать банальный сюжетец, который встречается повсюду, и он решил разнообразить его подтекстным образом Иисуса. Его главный прием – антитеза, он создаёт образы, противоположные уже существующим героям в других произведениях и высмеивает их. «Судьбы реальных героев из реальной жизни в рассказе Буйды фантастически изменены на противоположные и доведены до абсурда»[12]. Так же и библейский сюжет был доведён до абсурда. Иисус в рассказе был ненавистен и был повешен, как Иуда. Такая трактовка ошеломляет, но ещё более поразительно, то, что у Соколовой об этом ни слова, хотя постоянная встреча с весьма непривлекательным образом Иисусика откладывает в подсознании читателя, а тем более у ученика 11 класса, весьма тяжелый осадок.
Протоиерей Георгий Бирюков в своей статье «Буйда не Гоголь…» называет рассказ «Ева Ева» ремейком, так как основой рассказа послужил очерк Е. Яковлевой «Это было, было…» (он предлагается для анализа и Соколовой). Буйда переиначивает уже имеющейся литературный текст, вкладывая в него другую идею, а в результате мы видим мрачное, пессимистичное, убогое повествование. И это далеко не единственный ремейк писателя. Так, например: в рассказе «Фарфоровые ноги», входящим в тот же сборник «Прусская невеста», мы наблюдаем яркий пример переосмысления сказки братьев Гримм «Золушка». У Буйды ремейк перерастает в некую визитную карточку, которой он «заманивает» читателя. Продолжая рассмотрение проблемы жанра, Георгий Бирюков называет рассказ «ремейком-издёвкой, фантастическим ремейком-стебом». Автор статьи считает, что Ю. Буйда издевается над своими героями, читателями, «над всем и вся». И ведь, действительно, с этим невозможно не согласиться.
Ю. Буйда – «чистый» постмодернист, и его произведения, даже такое маленькое по объёму, как «Ева Ева», обилует несколько измененными основными чертами постмодернизма. «Мир как хаос». Это положение постмодернистов реализуется в сюжете рассказа. Перед нами полный хаос. Дети убивают ребёнка, женщина (герой Советского Союза) без стеснения льнёт к своему Анесу при посторонних, мужчины сходят с ума от страсти к ней, и вообще всё и вся стремится к физической близости. «…Вдруг пришли в охоту застоявшиеся черные быки и их ост-фризские невесты… И даже костлявая Марта, чьи сыновья погибли в Африке и на Волге, брала метлу на караул, пропуская машины с хохочущими солдатами через железнодорожный переезд…»[13].
«Пародийный модус повествования», или «пастиш». За основу писателем берутся какие-либо произведения, в данном случае очерк Е. Яковлевой, и подвергаются едкой иронии, сарказму.
«Интертекстуальность». Эта черта постмодернизма близка к пародийному модусу. Интертекстуальность – это диалог между текстами разных культур, способ включения в традицию, её осмысления и создание на этой почве оригинального произведения. Формы литературной интертекстуальности могут быть различными: переработка тем и сюжетов (что характерно для Буйды), использование аллюзий, реминисценций, явная и скрытая цитация, парафраза, пародия, стилизация. У Буйды же это положение реализуется в ремейке.
«Восприятие мира как текста». Для Буйды правда – это то, что написано в его рассказе. Его тексты – единственная существующая реальность. «Книга творит смысл, а смысл в свою очередь творит жизнь».
И тогда мы приходим к выводу о том, что Буйда пользуется приёмами постмодернизма, но не разделяет философскую, мировоззренческую позицию его приверженцев. Он всего лишь играет на публику, и, должны признаться, ему это удаётся. Он играет в постмодерниста, играющего в философа, мыслителя, историка и т.д.
Познакомившись с конспектом урока Л.Н. Соколовой, можем сказать, что её подход к изучению творчества Ю. Буйды весьма посредственен. Она объясняет ученикам творчество писателя не через целостное понимание самого текста и его идеи, а через его форму, при этом, однако, не обращаясь к поиску в нем отражения законов постмодернизма. А ведь это необходимо для понимания произведения и самой эстетики писателя. Мы считаем, что обращаться к исследованию творчества Ю. Буйды в школе едва ли стоит, для анализа постмодернистской эстетики можно подобрать более ярких представителей этого направления. Ну а если уж стали анализировать, то делать это нужно более глубоко и осознанно.
Но остаётся неразрешённым ещё один вопрос. Стоит ли нам в скором будущем ожидать новых конспектов уроков по произведениям Юрия Буйды на страницах современных программ? Ведь из всего «замечательного» набора произведений автора выбор почему-то пал на рассказ «Ева Ева». Хотя аналогичных «маленьких» рассказов, поднимающих «вечные» темы и проблемы, у него большое количество. Так, например, есть у Ю. Буйды рассказ «Одиночество с видом на комнату с видом на одиночество». Как вы уже догадались, речь пойдёт об одиночестве. Так же, как и рассказ «Ева Ева», его можно трактовать в зависимости от целей трактующего. С одной стороны, это монологическое излияние страждущей общения одинокой души, с другой, – жестокая насмешка над классической русской литературой. Но обо всём по порядку.
Рассказ «Одиночество с видом на комнату с видом на одиночество» входит в книгу под названием «Сумма одиночества». Понятная и доступная, на первый взгляд, тема трагичной судьбы, судя по всему, ещё достаточно молодого человека, трансформируется в пастиш, в издевку над героем, его переживаниями, стремлениями и над всеми теми проблемами, которые поднимала и поднимает русская литература. Странный получается рассказ.
Начнём с содержания. Время в рассказе расплывается, мы не видим проходящей минуты, проходящего дня, проходящей недели. Судить о времени можно лишь по мистическим происшествиям, происходящим в комнате, и эти происшествия заведомо подчёркнуты заботливым автором. «Авторучка на письменном столе лежит не так, как положил её я. Почему-то оказывается открытой папка со старыми рукописями. А если заглянуть в платяной шкаф, наверняка окажется, что серый костюм с накладными карманами висит не с краю, а рядом с чёрным, который тоже давно пора выбросить на свалку. И апельсин уже не оранжевый и вроде бы успел тронуться порчей»[14]1, – а после: «Даже отсюда мне видно, что плод уже не съедобен: он сгнил»[15].
В рассказе практически нет событийности. Всё, что мы видим – это маленькую комнату с мечущимся, как в клетке, человеком, и нам непонятно, кто перед нами: автор или созданный им обобщенный образ писателей-классиков с их переживаниями и борьбой за правду. Нам ближе иной вариант толкования. Дело в том, что Буйда, безусловно, создаёт обобщенный образ русских писателей, следуя традиции постмодернизма, но и сам автор присутствует в нём, только он растворяется, скрывается от читателя. Автор показывается только в моментах как бы самоиронии. «Новая литература подвергает насмешке учительский комплекс, вечную жажду дать определённые ответы на знаменитые русские вопросы: “кто виноват?” и “что делать?”»[16], – пишет Т.Г. Прохорова. Именно над этим и издевается Буйда в рассказе. Он до безобразия пропитывает своё произведение «диким» смехом, сарказмом: «Изредка на полуистлевшей, маслянистой поверхности тахты раскидывают свои горизонтальные прелести мои немногочисленные подружки. Одна из них съела мою золотую рыбку. С тех пор я не держу аквариума»[17].
Он смеётся над героем, говоря о его беспорядочных связях с женщинами и омерзительном существовании в клетке, которую он сам для себя создал, как считает автор.
В рассказе нет веры, она изгнана из него: «Улица пустынна. Ни людей, ни собаки, ни Бога»[18]. Заметим, что Бога он поставил на самую нижнюю ступень, после животного. Зато – иронично – с большой буквы.
Герой ждет кого-то, ему хочется, чтобы к нему кто-нибудь пришел, тот, кому он нужен. С какой-то излишне скрупулезной точностью описывается интерьер: «…Это прямоугольник…Почти квадрат – круг, из которого не вырваться. Геометрия зла. Справа от окна – маленький письменный стол с пишущей машинкой, пепельницей и толстенной пачкой чистой, как ужас, бумаги. Вдоль стены – неширокая тахта без двух ножек, одна заменена кирпичами, в роли другой выступает жёлтый пятитомник Сервантеса… Дальше двустворчатый платиной шкаф, слишком просторный для моего скудного гардероба. Напротив тахты, вдоль другой стены, – книжные полки. С потолка свисает костлявая латунная люстра с вечно перегорающими лампочками, которые то и дело приходится добывать на лестничных площадках (разумеется, тайком от соседей)»[19]. Его комната – это гроб, пропитанный смертью: «…Комната, родившаяся в архитектурной мастерской Освенцима»[20]. Она напоминает комнатушку Раскольникова, обстановка настолько влияет на героя, что он начинает задумываться над такими философскими проблемами как одиночество, одиночество западное и одиночество русское, к чему ведут поиски Бога и т.д.
Герой – это писатель, который хочет написать заметки об одиночестве. «Западное одиночество – это труд, который может восприниматься и как проклятие, но к проклятию не сводится. Для коллективного русского сознания, усматривающего в индивидуализме лишь зло, одиночество – это душевное состояние, ибо наша свобода – это свобода мистического восхождения к Богу, свобода слияния с ним»[21]. Об этом размышляет герой в своем собственном одиночестве, но сразу же появляется автор и отрицает всё сказанное вначале: «Столетиями русские люди жили на миру…завидуя святым отшельникам, затворившимся в лесных скитах и монастырях…А я ненавижу своё жилище. И мысли, порожденные этой геометрией зла, – ненавижу»[22].
Все, чем занимается герой, – это путешествие по чужим снам и подслушивание окружающих звуков. Но вдруг ему кажется, что кто-то его ищет и это толкает на новые думы, и вот «одиночество – это ожидание». А далее продолжает «Я смертен, ergo – я должен ждать. Всегда быть готовым к встрече. Ибо не существует никакого будущего, кроме того, что зовётся “сейчас”»[23]. Интересный взгляд, кстати, не опровергаемый автором и полностью противоречащий русскому взгляду на жизнь. Русский человек не может жить без будущего, он должен думать о нём и куда-нибудь стремиться. Кроме того, в этой фразе проскальзывает атеистический мотив, неверие, которое пронизывает все без исключения рассказы Буйды: «…Поиски Бога, – движение по кругу – в самом совершенном и чудовищном из лабиринтов вечности… ищущие Бога обязательно натыкаются на дьявола»[24].
Ну и кто же ищет героя? Это всего лишь птица, она «уставилась» на апельсин, но, испугавшись движения героя, улетела. «Я могу длить и длить её полёт в своих сновидениях, как она может длить мою жизнь – в своих снах. Впрочем, не исключено, что воображение её захвачено апельсином, продолжающим разлагаться на столе…»[25]. Какого «величия» издевка над жизнью в этих завершающих строках!.. Расшифруем данное «послание» потомкам.
Несчастная, маленькая птичка – это читатель, напуганный лёгким движением творца. Герой – это любой писатель, творящий в традиции русской классической литературы. А плод апельсина – это его творчество, не имеющее ни какого значения в современном мире, ибо «плод уже не съедобен: он сгнил».
Можно привести ещё один пример, где в творчестве Буйды проскальзывают «псевдо»светлые мотивы. Рассказ называется «Продавец добра» и также входит в сборник «Прусская невеста». В произведении сошедший с ума Родион Иванович, «с печально-ласковым выражением лица» ходит по домам и предлагает приобрести добро. Он раздаёт склеенные из бумаги коробки: «Одна сторона её была не заклеена и служила крышкой, внутри оказалась коробка поменьше, с такой же не заклеенной крышечкой. На дне этой второй коробки аккуратным почерком малограмотного человека было начертано одно-единственное слово – “добро”»[26]. И автор-рассказчик не смеётся над героем, он сочувствует ему и даже соглашается с ним: «…С
годами я начал понимать, что слово “добро” обладает всего одним – одним – единственным смыслом, и именно тем, который вложил в него несчастный Родион Иванович…»[27]. Что же это, как ни насмешка над всей русской классикой, над её героями, её писателями, над её читателями? Что это? как ни ещё одна игра Юрия Буйды&
Творчество Ю. Буйды – это не тот художественный объект, который предназначается для школьного исследования. Однако благодаря нынешним программам по литературе, оно в скором времен выйдет из рамок «обзорного» изучения и, возможно, потеснит лучшие образцы истинной классики.
[1] Ирмияева Т. “Русский журнал” [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://buida.ru/
[2] Лапина А. [электронный ресурс].- Режим доступа: http://buida.ru/
[3] Курбатов В. Дружба народов [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://buida.ru/
[4] Маранцман В.Г. Русская литература последних десятилетий / Конспекты уроков для учителя [электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.prosv.ru/ebooks/Marancman_Rus_liter_11kl/ index. Html
[5] Там же.
[6] Там же.
[7] Там же.
[8] Буйда. Ю. Ева Ева. [электронный ресурс].– Режим доступа: http://buida.ru/text/eva-eva/
[9] Маранцман В.Г. Русская литература последних десятилетий / Конспекты уроков для учителя [электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.prosv.ru/ebooks/Marancman_Rus_liter_11kl/ index. Html
[10] Буйда. Ю. Ева Ева. [электронный ресурс].– Режим доступа: http://buida.ru/text/eva-eva/
[11] Там же.
[12] Протоиерей Георгий Бирюков. Буйда не Гоголь…[электронный ресурс].– Режим доступа: http://ruskline.ru/analitika/2009/12/04/bujda_ne_gogol
[13] Буйда. Ю. Ева Ева. [электронный ресурс].– Режим доступа: http://buida.ru/text/eva-eva/
[14] Буйда. Ю. Одиночество с видом на комнату с видом на одиночество. [электронный ресурс].– Режим доступа: http://buida.ru/text/odinochestvo-s-vidom-na-komnatu-s-vidom-na-odinochestvo/
[15] Там же.
[16] Прохорова Т.Г. Постмодернизм в русской прозе. [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.kpfu.ru/f10/publications/2005/P6.pdf
[17] Буйда. Ю. Одиночество с видом на комнату с видом на одиночество. [электронный ресурс].– Режим доступа: http://buida.ru/text/odinochestvo-s-vidom-na-komnatu-s-vidom-na-odinochestvo/
[18] Там же.
[19] Там же.
[20] Там же.
[21] Там же.
[22] Там же.
[23] Там же.
[24] Там же.
[25] Там же.
[26] Буйда. Ю. Продавец добра. [электронный ресурс].– Режим доступа: http://buida.ru/text/prodavec-dobra/
[27] Там же.
Назад к списку

